Архив темы “Что дает трезвость и что отнимает”
Полная Версия: Архив темы “Что дает трезвость и что отнимает”
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 17:56) |
слушай а ты девственник да?
Спустя 1 минут, 22 секунд (2.06.2009 - 18:01) Bear2008 написал(а):
venus_81
А ты почитай все что я писал - поймешь... Я писал что жил со своей Любовью пока она в Питер не уехала...
А ты почитай все что я писал - поймешь... Я писал что жил со своей Любовью пока она в Питер не уехала...
Спустя 4 секунд (2.06.2009 - 18:02) Кот Баюн написал(а):
И кто она послен этого? Тем более как я понял она из Казани - у мусульман с этим вообще строго. И правильно что одна...
Ты просто какой-то первобытный человек. Как можно жить без хоть до брака, хоть вместо брака? Нафиг связывать себя браком, если не испытал с человеком ?
Времена, когда слово "разврат" что-то означало - давно ушли. Проститука (фея по новому) - уважаемая профессия.
Ты просто какой-то первобытный человек. Как можно жить без хоть до брака, хоть вместо брака? Нафиг связывать себя браком, если не испытал с человеком ?
Времена, когда слово "разврат" что-то означало - давно ушли. Проститука (фея по новому) - уважаемая профессия.
Спустя 3 минут, 15 секунд (2.06.2009 - 18:05) venus_81 написал(а):
1.правильно сделала что уехала
2.она тогда тоже лядь если спала с тобой
3.если ты не девственник то по логике тоже лядь
2.она тогда тоже лядь если спала с тобой
3.если ты не девственник то по логике тоже лядь
Спустя 42 секунд (2.06.2009 - 18:05) Bear2008 написал(а):
Кот Баюн
| Цитата |
| Ты просто какой-то первобытный человек. Как можно жить без хоть до брака, хоть вместо брака? Нафиг связывать себя браком, если не испытал с человеком ? |
Интерсная мысль. Просто для меня такие понятие как и любовь неразделимы Секс это все лишь инстинкт продолжения рода только единение тел. А в Любви объединяются не только тела но и души...
Спустя 25 секунд (2.06.2009 - 18:06) Lili M написал(а):
| Цитата (Кот Баюн @ 2.06.2009 - 18:02) |
| Проститука (фея по новому) - уважаемая профессия |
Интересно - кем?
Кем уважаемая?
А ты вообще в курсе, что проституция в России не легализована?
Спустя 4 минут, 11 секунд (2.06.2009 - 18:10) venus_81 написал(а):
короче посмеялась я хорошо
всем счастливо
я домой к Суслику
одна, совсем одна, ну лядь короче я...
всем счастливо
я домой к Суслику
одна, совсем одна, ну лядь короче я...
Спустя 24 секунд (2.06.2009 - 18:10) Bear2008 написал(а):
venus_81
| Цитата |
| 1.правильно сделала что уехала |
Ну почему уехала там вообще история длинная. Он уехала не от меня...
| Цитата |
| 2.она тогда тоже лядь если спала с тобой |
И с этим я не спорю и не только потому что спала со мной - у нее вообще как она сама писала было около десятка (я думаю привирает - побольше) Но тут я не уберег не досмотрел и прочее... И Люблю я ее и чувства у мен к ней появились раньше... Вот ту я конечно виноват... в том что забыть ее не могу...
| Цитата |
| 3.если ты не девственник то по логике тоже лядь |
Ну по женской может быть и так... Я лядями называю тех кто хоть раз без любви, где чистый ... и нечего более...
Спустя 20 секунд (2.06.2009 - 18:11) Ravenna написал(а):
Bear2008
Медведь, ты не только дурак... ты еще и дерьмо...
Медведь, ты не только дурак... ты еще и дерьмо...
Спустя 3 минут, 19 секунд (2.06.2009 - 18:14) Bear2008 написал(а):
Ravenna
| Цитата |
| Медведь, ты не только дурак... ты еще и дерьмо... |
Это потому что я называю некоторые вещи своими именами? Я между прочим не притворяюсь и не пытаюсь нагородить трудностей чтобы потом героически их преодолевать. Да я считаю что переспать с женщиной без любви преступление. Проститутки исключение - тут чистейшие товарно денежные отношения и прав они не качают как некоторые...
Спустя 7 минут, 2 секунд (2.06.2009 - 18:21) Transformer написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 15:14) | ||
Ravenna
Это потому что я называю некоторые вещи своими именами? Я между прочим не притворяюсь и не пытаюсь нагородить трудностей чтобы потом героически их преодолевать. Да я считаю что переспать с женщиной без любви преступление. Проститутки исключение - тут чистейшие товарно денежные отношения и прав они не качают как некоторые... |
Если своими именами - то мужику не позорно быть "лядом". Ну и наоборот.
Если по твоим понятиям - позорно - то это твои извращенные понятия, до которых по сути никому нет дела. А женщины - да, обижаются, потому что действительно для них это стыдно. Но ты не заметил - что женщины и мужчины - чем-то отличаются даже физически-внешне, я уж не говорю про то, что внутри!
Без какой любви, какое преступление? Великий мститель всему миру?
Ты один против всего мира - против природы и ее сил?
Ты просто какую-то ерунду себе навыдумывал.
Спустя 7 минут, 1 секунд (2.06.2009 - 18:28) Bear2008 написал(а):
Transformer
| Цитата |
| А женщины - да, обижаются, потому что действительно для них это стыдно |
Правильно но ведь понимают кто они есть на самом деле?
Как говорила мне одня - я же не проститутка, я денег за это не получаю...
| Цитата |
| Но ты не заметил - что женщины и мужчины - чем-то отличаются даже физически-внешне, я уж не говорю про то, что внутри! |
Заметил...
Понимаешь я тебе уже писал. У нас с тобой разные взгляды на семейную жизнь. Ты видимо из тех для кого удовлетворение в постели главное (причем удовлетворение чисто телесное без ощущения растворенности душ друг в друге) И потом если все хорошо будем жить стерпиться-слюбиться... А если дети?
Вот такой подход я и называю созданием трудностей и героическим их последующим преодолением....
Спустя 1 минут, 43 секунд (2.06.2009 - 18:30) Ravenna написал(а):
Bear2008
Нет, не поэтому... Воняет от тебя...
Нет, не поэтому... Воняет от тебя...
Спустя 1 минут, 22 секунд (2.06.2009 - 18:31) Transformer написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 15:14) |
| Bear2008 Правильно но ведь понимают кто они есть на самом деле? И именно поэтому как раз такие и накидываются на меня... Как говорила мне одня - я же не проститутка, я денег за это не получаю... |
Тебе приятно вот было бы, если бы каждая женщина тебе говорила, что ты онанируешь? Тоже самое для них - когда говоришь, что она "гулящая".
Почти Абсолютная аналогия.
Спустя 5 минут, 54 секунд (2.06.2009 - 18:37) Transformer написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 15:28) |
| Ты видимо из тех для кого удовлетворение в постели главное (причем удовлетворение чисто телесное без ощущения растворенности душ друг в друге) И потом если все хорошо будем жить стерпиться-слюбиться... А если дети? Вот такой подход я и называю созданием трудностей и героическим их последующим преодолением.... |
Удовлетворение в постели и есть настоящее мистическое так сказать растворение душ. То, что пропагандируешь ты - есть мутота, а не отношения. Это выдумки твои. Тебя наверное мать воспитывала раз в тебе сколько женского гонева говорит.
А женщина гонит, потому что тоже хочет видеть мир по своему! А мир он бессмертный и бесконечный и такой как он есть!
А трудности надо решать те, которые есть у тебя, а не лечить чужие трудности, или воображаемые!
Спустя 1 минут, 21 секунд (2.06.2009 - 18:38) Bear2008 написал(а):
Transformer
| Цитата |
| Тоже самое для них - когда говоришь, что она "гулящая". |
Да я это им говорю только тогда когда они начинают мне доказывать что они такие хорошие и прочее... А то что через их постель прошел целый полк это и не важно вовсе...
Меня они не устраивают. И не надо ко мне лезть и доказывать наколько они хорошие...
| Цитата |
| А трудности надо решать те, которые есть у тебя, а не лечить чужие трудности, или воображаемые! |
Но не таким способом - она нечем от проститутки не отличается (разве что денег не берет) но требует гораздо большего. И что? Приходить вымотанным с работы и заставлять себя улыбаться? Проститутку пнул и никаких забот..
Спустя 1 минут, 47 секунд (2.06.2009 - 18:40) Transformer написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 15:38) |
| И не надо ко мне лезть и доказывать наколько они хорошие... |
А, так ты свататься сюда пришел?
Не лучшее место, люди под алкоголем не то, что погулять, но и всякую хрень вытворяют. Как мужчины так и женщины. Алкоголь тут не имеет половой дискриминации.
Спустя 1 минут, 13 секунд (2.06.2009 - 18:41) anonim написал(а):
Медведь, каждый человек ( в т.ч. и женщины ) я так думаю сами разберуться со своими ошибками (грехами). Рано или поздно это происходит, приходят люди к пониманию своих ошибок. (я по себе сужу).Бог простит.
А ты умеешь прощать? какой мерой меряете...
А ты умеешь прощать? какой мерой меряете...
Спустя 2 минут, 26 секунд (2.06.2009 - 18:44) Ravenna написал(а):
А тебе, дураку, тут никто ничего не доказывает...
Спустя 1 минут, 57 секунд (2.06.2009 - 18:46) Ravenna написал(а):
Это медведю...
Спустя 3 минут, 24 секунд (2.06.2009 - 18:49) Кот Баюн написал(а):
Lili M
Мной уважаемая.
Мне нет дела - что там легализовано. Я живу по своим законам.
Мной уважаемая.
Мне нет дела - что там легализовано. Я живу по своим законам.
Спустя 47 секунд (2.06.2009 - 18:50) Bear2008 написал(а):
Transformer
| Цитата |
| , так ты свататься сюда пришел? |
Ну нет... Тут 99.(9)%с детьми...
anonim
| Цитата |
| Рано или поздно это происходит, приходят люди к пониманию своих ошибок. (я по себе сужу).Бог простит. |
Ну понимают они свои ошибки и что? Вот детей которых они родили ошибками не считают - хорошо, пусть будет так. Но почему тогда они требуют чтобы я не только помогал им воспитывать и содержать их детей но и чтобы я любил их? Я и самих таких могу разве что терпеть рядом...
Нет если бы от такой я бы смог потерять голову конечно я принял бы ее такой какая есть - вот свою знакомую я готов принять со всеми недостатками...
Но голову я разучился терять - вот это наверное и есть главная проблемма...
Это кстати и ответ на вопрос умею ли я прощать. Да той которую люблю (одержим) я прощу абсолютно все...
А других? За что их прощать - они сами себя виноватыми не считают...
Спустя 21 секунд (2.06.2009 - 18:50) Transformer написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 15:38) | ||
Но не таким способом - она нечем от проститутки не отличается (разве что денег не берет) но требует гораздо большего. И что? Приходить вымотанным с работы и заставлять себя улыбаться? Проститутку пнул и никаких забот.. |
Трудности решать - которые у тебя есть. А не у кого-то!
Во-первых проблемы с мировосприятием (шаги, психиатры).
Во вторых проблемы с собой - из-за чего ты женщин отпугиваешь, не нравишься. Сходи к парикмахерам, прическу модную сделай. Сбрей усы, займись спортом, потренируй улыбку :-)
Без труда не выловишь...
Спустя 2 минут, 38 секунд (2.06.2009 - 18:53) Кот Баюн написал(а):
Да той которую люблю (одержим) я прощу абсолютно все...
Какая мерзость потрясающая!
Какая мерзость потрясающая!
Спустя 1 минут, 59 секунд (2.06.2009 - 18:55) Bear2008 написал(а):
Transformer
| Цитата |
| Во вторых проблемы с собой - из-за чего ты женщин отпугиваешь, не нравишься. Сходи к парикмахерам, прическу модную сделай. |
Тут полумерами не обойтись - идти надо не к парикмахеру а хорошему пластическому хирургу
Кот Баюн
| Цитата |
| Какая мерзость потрясающая! |
Почему мерзость? Не понимаю уж извини...
Спустя 1 минут, 25 секунд (2.06.2009 - 18:56) Transformer написал(а):
| Цитата (Кот Баюн @ 2.06.2009 - 15:53) |
| Да той которую люблю (одержим) я прощу абсолютно все... Какая мерзость потрясающая! |
А упертость-то какая! Еще потрясающей!
Только стене пофигу!
Спустя 1 минут, 49 секунд (2.06.2009 - 18:58) Bear2008 написал(а):
Transformer
| Цитата |
| А упертость-то какая! Еще потрясающей! |
Это точно. Я же говорил что сначала думаю а потом делаю. А делать не думая у меня получается только у пьяного....
Спустя 5 минут, 29 секунд (2.06.2009 - 19:04) АлкогОлег написал(а):
О депрессии, смысле жизни и смирении- у Чехова
Чехов свято верил: по-настоящему человека занимает только еда!
Еда занимает у Чехова непропорционально, оскорбительно много места
и это не личное гурманство (как раз к еде он был по большей части равнодушен), а глубокая, непобедимая уверенность в том, что человек любит главным образом жрать, что только это его по-настоящему и занимает, а потому нечего тут, понимаете, трепаться о всяких абстракциях.
Приходит к нему учитель, сельский, нудный, жалуется на отсутствие смысла жизни, а Чехов ему, глядя из-за стекол пенсне маленькими, холодными, никогда не смеющимися глазами: вам бы, голубчик, к Тестову, селянки взять, да водки похолоднее. Прибегают ялтинские дамы, щебечут об эмансипации и запросах, – он морщится, как от мигрени, и спрашивает: дамы, вы какой мармелад больше любите – фруктовый или молочный? И они тут же переходят на мармелад, и сразу видно, что он им интересен по-настоящему. Герои Чехова мыслят желудком и мир воспринимают исключительно через него: когда герой рассказа «О любви» слушает пение любимой женщины, ему кажется, что он ест сладкую, душистую дыню. И такой гастрономии – в каждом рассказе, в любой повести; в пьесах только нет, почему они подчас и кажутся безжизненными.
После заседания N-ского мирового съезда судьи собираются в совещательной комнате. Председатель Петр Николаич спешит записать «особое мнение», время бежит, все уже порядком подустали, а главное, проголодались – пора бы ехать уже, пора. И все бы уладилось благополучно, как вдруг секретарь съезда Жилин, «маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице» превращается в сирену. Метафорически, само собой. Он начинает смущать измученных судей разговорами о еде. И чем дальше – тем больше увлекается, его соблазнительные речи игнорировать немыслимо и прервать невозможно. Больно уж сладостные картины Жилин рисует перед мысленным взором собравшихся: вот, скажем, возвращение с охоты к обеду. А во дворе уже запах витает и манит, манит в дом… И верно, что «жареные гуси мастера пахнуть», ан «утка или бекас могут гусю десять очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности.
Забористее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начинает поджариваться и, понимаете ли, шипит, подлец, на весь дом…» Ну а на столе непременно графинчик с водочкой: «…ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «его же и монаси приемлют». Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом... объедение!»
Дальше – больше, из кухни того и гляди непременно приволокут кулебяку. «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...» «Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита не перебить, велите щи подавать... Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией…»
Все больше и больше увлекается Жилин, председатель никак не может сосредоточиться, «особое мнение» раскисает на глазах, один лист испорчен, второй, третий… Как тут собраться с мыслями? «Из рыб безгласных самая лучшая – это жареный карась в сметане; только, чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки…» Не выдерживает почетный мировой, толстяк и любитель покушать, – со зверским лицом срывается с места, хватает шляпу и выбегает из комнаты. Не выдерживает философ Милкин, что минуту назад с презрительной гримасой заявлял, что помимо жареной утки должны быть в жизни вещи куда более возвышенные. Причмокивает и, подхватив шляпу, бросается вон. Да и товарищ прокурора, только что сожалевший о своем «катаре желудка», дает слабину. «Я вам по совести, Степан Францыч, – продолжает Жилин едва слышным шёпотом, – домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе...» Под конец сдается и председатель, отбрасывает в сторону перо, посылает к такой-то матери «особое мнение», хватается обеими руками за шляпу – и вперед, насыщать желудок сладостной снедью и восхвалять тучных богов аппетита. Секретарь Жилин только укоризненно вздыхает да остается собирать бумаги.
Некоторые фразы из «Сирены» прочно вошли в читательский домашний обиход. Во множестве семейств случалось мне узнавать их: «Я раз дорогою вообразил себе поросеночка с хреном – так со мной от аппетита истерика сделалась!» – попробуйте сами вообразить себе эту истерику от аппетита! Не менее знаменит рассказ Чехова «О бренности», в котором надворный советник Семен Петрович Подтыкин сладострастно намазывает блин сметаной и чего только туда не накладывает – «но тут его хватил апоплексический удар». Думаете, эта история отбивает читателю аппетит? Ничуть не бывало: в предощущении собственной бренности он только острее. Не зря Някрошюс в своей постановке «Трех сестер» заставляет Тузенбаха перед роковой дуэлью много, сладострастно, аппетитно жрать и финальный монолог произносить с набитым ртом.
Чехов и с Толстым любил побеседовать о еде, хотя Толстой к тому времени прочно перешел на вегетарианство – но поговорить и послушать о деликатесах любил. Правда, неизменно переводил разговор на женщин, а об этом Чехов не распространялся. Послушать, впрочем, любил тоже. Казалось бы, странно: вот уж кому, собравшись, вечные вопросы разрешать, а они о солянке да о поросенке с хреном. Но если вдуматься, начинаешь понимать, что к чему. Что спорить о метафизике? Все равно ни до чего не договоришься. Жизнь, жизнь надо любить, – по счастливому выражению из чеховской «Жалобной книги», «Лопай, что дают!». Особенно если дают поросенка с хреном.
Чехов свято верил: по-настоящему человека занимает только еда!
Еда занимает у Чехова непропорционально, оскорбительно много места
и это не личное гурманство (как раз к еде он был по большей части равнодушен), а глубокая, непобедимая уверенность в том, что человек любит главным образом жрать, что только это его по-настоящему и занимает, а потому нечего тут, понимаете, трепаться о всяких абстракциях.
Приходит к нему учитель, сельский, нудный, жалуется на отсутствие смысла жизни, а Чехов ему, глядя из-за стекол пенсне маленькими, холодными, никогда не смеющимися глазами: вам бы, голубчик, к Тестову, селянки взять, да водки похолоднее. Прибегают ялтинские дамы, щебечут об эмансипации и запросах, – он морщится, как от мигрени, и спрашивает: дамы, вы какой мармелад больше любите – фруктовый или молочный? И они тут же переходят на мармелад, и сразу видно, что он им интересен по-настоящему. Герои Чехова мыслят желудком и мир воспринимают исключительно через него: когда герой рассказа «О любви» слушает пение любимой женщины, ему кажется, что он ест сладкую, душистую дыню. И такой гастрономии – в каждом рассказе, в любой повести; в пьесах только нет, почему они подчас и кажутся безжизненными.
После заседания N-ского мирового съезда судьи собираются в совещательной комнате. Председатель Петр Николаич спешит записать «особое мнение», время бежит, все уже порядком подустали, а главное, проголодались – пора бы ехать уже, пора. И все бы уладилось благополучно, как вдруг секретарь съезда Жилин, «маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице» превращается в сирену. Метафорически, само собой. Он начинает смущать измученных судей разговорами о еде. И чем дальше – тем больше увлекается, его соблазнительные речи игнорировать немыслимо и прервать невозможно. Больно уж сладостные картины Жилин рисует перед мысленным взором собравшихся: вот, скажем, возвращение с охоты к обеду. А во дворе уже запах витает и манит, манит в дом… И верно, что «жареные гуси мастера пахнуть», ан «утка или бекас могут гусю десять очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности.
Забористее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начинает поджариваться и, понимаете ли, шипит, подлец, на весь дом…» Ну а на столе непременно графинчик с водочкой: «…ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «его же и монаси приемлют». Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом... объедение!»
Дальше – больше, из кухни того и гляди непременно приволокут кулебяку. «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...» «Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита не перебить, велите щи подавать... Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией…»
Все больше и больше увлекается Жилин, председатель никак не может сосредоточиться, «особое мнение» раскисает на глазах, один лист испорчен, второй, третий… Как тут собраться с мыслями? «Из рыб безгласных самая лучшая – это жареный карась в сметане; только, чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки…» Не выдерживает почетный мировой, толстяк и любитель покушать, – со зверским лицом срывается с места, хватает шляпу и выбегает из комнаты. Не выдерживает философ Милкин, что минуту назад с презрительной гримасой заявлял, что помимо жареной утки должны быть в жизни вещи куда более возвышенные. Причмокивает и, подхватив шляпу, бросается вон. Да и товарищ прокурора, только что сожалевший о своем «катаре желудка», дает слабину. «Я вам по совести, Степан Францыч, – продолжает Жилин едва слышным шёпотом, – домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе...» Под конец сдается и председатель, отбрасывает в сторону перо, посылает к такой-то матери «особое мнение», хватается обеими руками за шляпу – и вперед, насыщать желудок сладостной снедью и восхвалять тучных богов аппетита. Секретарь Жилин только укоризненно вздыхает да остается собирать бумаги.
Некоторые фразы из «Сирены» прочно вошли в читательский домашний обиход. Во множестве семейств случалось мне узнавать их: «Я раз дорогою вообразил себе поросеночка с хреном – так со мной от аппетита истерика сделалась!» – попробуйте сами вообразить себе эту истерику от аппетита! Не менее знаменит рассказ Чехова «О бренности», в котором надворный советник Семен Петрович Подтыкин сладострастно намазывает блин сметаной и чего только туда не накладывает – «но тут его хватил апоплексический удар». Думаете, эта история отбивает читателю аппетит? Ничуть не бывало: в предощущении собственной бренности он только острее. Не зря Някрошюс в своей постановке «Трех сестер» заставляет Тузенбаха перед роковой дуэлью много, сладострастно, аппетитно жрать и финальный монолог произносить с набитым ртом.
Чехов и с Толстым любил побеседовать о еде, хотя Толстой к тому времени прочно перешел на вегетарианство – но поговорить и послушать о деликатесах любил. Правда, неизменно переводил разговор на женщин, а об этом Чехов не распространялся. Послушать, впрочем, любил тоже. Казалось бы, странно: вот уж кому, собравшись, вечные вопросы разрешать, а они о солянке да о поросенке с хреном. Но если вдуматься, начинаешь понимать, что к чему. Что спорить о метафизике? Все равно ни до чего не договоришься. Жизнь, жизнь надо любить, – по счастливому выражению из чеховской «Жалобной книги», «Лопай, что дают!». Особенно если дают поросенка с хреном.
Спустя 1 минут, 55 секунд (2.06.2009 - 19:06) anonim написал(а):
| Цитата |
| За что их прощать - они сами себя виноватыми не считают |
Что-то я не могу врубиться в эту фразу. не стыкуется.
если они не считают себя виноватыми - тебе то что нужно?
ты по-моему сам себе ответил
Спустя 2 минут, 4 секунд (2.06.2009 - 19:08) Transformer написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 15:55) |
| идти надо не к парикмахеру а хорошему пластическому хирургу |
Ну так иди!
Много шума - да ноль дела.
Но сначала всетаки с психиатру - который умеет лечить мозг - чтоб мозг мог смотреть и видеть. А то крайность восприятие без логики, как и крайность логика без восприятия. Все равно что глухому в композиторы.
Ты оцениваешь кого-то все. Только чего стоят твои оценки, тебя увидели, прочитали, потом забыли и все. Ты один из миллиардов людей, песчинка.
Может тебе просто нравится когда получается кого-то задеть? Развлекуха?
Еще можешь стать дипломированным каким-то оценщиком! Написать диссертацию по оценке женщин с детьми - стать всемирно известным оценщиком женщин с детьми и изменить мир. Только ты ничего не делаешь и не сделаешь. Только свист стоит :-)
| Цитата |
| Я же говорил что сначала думаю а потом делаю. А делать не думая у меня получается только у пьяного.... |
Это тебе надо к Анонимным Сумасшедшим, я серьезно.
Спустя 5 минут, 15 секунд (2.06.2009 - 19:13) Bear2008 написал(а):
АлкогОлег
| Цитата |
| «Лопай, что дают!». Особенно если дают поросенка с хреном |
Ты как всегда умеешь сказать Только если бы "поросенка с хреном" Или представлять этого поросенка когда на самом деле обедки?
anonim
| Цитата |
| если они не считают себя виноватыми - тебе то что нужно? |
Мне такие не нужны
Это если головой думать... Вот и все...
Transformer
| Цитата |
| Ну так иди! Много шума - да ноль дела. |
На пластического хирурга я пока банально не заработал. Ты вообще представляешь хотя бы порядок цен. Это не косметическая операция - это полная переделка лица За такое и не каждый возьмется...
| Цитата |
| Это тебе надо к Анонимным Сумасшедшим, я серьезно. |
Получается сначала думать а потм делать признак сумасшествия ?
| Цитата |
| Все равно что глухому в композиторы. |
Про Бетховена забыл? Или не знал?
Спустя 20 минут, 16 секунд (2.06.2009 - 19:33) Transformer написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 16:13) | ||
Получается сначала думать а потм делать признак сумасшествия ? |
Это тебе кажется что ты думаешь, что умный и прочее. Но ты не думаешь - ты просто уперся в свою извращенную (сумасшедшую) какую-то логику. Такое мышление - не называется сначала думать, т.к. не имеет результатов, а только заставляет мучатся.
Про Бетховена не знал. Ну и ладно с ним. Он наверняка был лядуном триклятым, ибо толковый как выяснилось.
Я отходил на несколько дней в работу - вернулся посмотрел - у тебя тоже самое что и было - это как так надо было столько времени думать, чтобы так ни чего и не придумать? Посмотри правде в глаза! Мозг у тебя сломанный напрочь.
Спустя 8 минут, 11 секунд (2.06.2009 - 19:41) Bear2008 написал(а):
Transformer
| Цитата |
| Мозг у тебя сломанный напрочь. |
Наверное
| Цитата |
| Посмотри правде в глаза! |
А правда как раз в том что АлкогОлег написал правильно мне остались эти самые... леди в общем.
Ладно буду пробовать учиться принимать их и не морщиться. Авось чего-нибудь выйдет...
Спустя 12 минут, 48 секунд (2.06.2009 - 19:54) Кот Баюн написал(а):
Bear2008
А каково твоё положение в обществе, что ты требуешь жену с абсолютными качествами? Каков твой капитал? Какова недвижимость? Что ты????
А Бетховен словил глухоту на почве сифилиса в зрелом возрасте.
А каково твоё положение в обществе, что ты требуешь жену с абсолютными качествами? Каков твой капитал? Какова недвижимость? Что ты????
А Бетховен словил глухоту на почве сифилиса в зрелом возрасте.
Спустя 7 минут, 18 секунд (2.06.2009 - 20:02) Lili M написал(а):
| Цитата (Кот Баюн @ 2.06.2009 - 18:49) |
| Мной уважаемая. |
Тобой проститутка уважаемая!... Ога!
Спустя 7 минут, 49 секунд (2.06.2009 - 20:09) Bear2008 написал(а):
Кот Баюн
| Цитата |
| А каково твоё положение в обществе, что ты требуешь жену с абсолютными качествами? |
Да значит хорошее образование и отсутствие детей это уже абсолютные качества...
| Цитата |
| Каков твой капитал? Какова недвижимость? |
Ну работа у меня стабильно будет и в кризис даже еще больше. Я как раз в кризис почувствовал свою настоящую цену как спеца - я диктую условия работодателю а не наоборот. Вот в этом всегда жил по приципу - была бы шея а хомут найдеться.
Ну и жилье есть. Теперь целых две квартиры - на одну сам заработал а другая от родителей осталась
А про Бетховена я сказал как про глухого композитора. И то что словил глухоту на почве сифилиса подтверждает слова что лядун был еще тот
Спустя 54 секунд (2.06.2009 - 20:10) Кот Баюн написал(а):
Lili M
Читать тектсты умеем? Не одна какая-то проститутка, а проституция. Секс за деньги - это хорошо. В 70-е годы это стоило 25 рублей, сейчас 2000-3000. Универсальный такой эталон.
Читать тектсты умеем? Не одна какая-то проститутка, а проституция. Секс за деньги - это хорошо. В 70-е годы это стоило 25 рублей, сейчас 2000-3000. Универсальный такой эталон.
Спустя 1 часов, 4 минут, 41 секунд (2.06.2009 - 21:15) Kabir63 написал(а):
Спустя 35 минут, 35 секунд (2.06.2009 - 21:51) leHa написал(а):
Transformer
Кот Баюн
Хорош биссер метать ребят, ну совсем больной человек.
Пусть живет с этим, значит ему нравится так.
Кот Баюн
Хорош биссер метать ребят, ну совсем больной человек.
Пусть живет с этим, значит ему нравится так.
Спустя 2 минут, 11 секунд (2.06.2009 - 21:53) Кот Баюн написал(а):
leHa
Да он меня не напрягает. Я одновременно на многих чатах сижу.
Да он меня не напрягает. Я одновременно на многих чатах сижу.
Спустя 49 секунд (2.06.2009 - 21:54) Transformer написал(а):
| Цитата (leHa @ 2.06.2009 - 18:51) |
| Transformer Кот Баюн Хорош биссер метать ребят, ну совсем больной человек. Пусть живет с этим, значит ему нравится так. |
Лен, все мы тут больные, надо помогать друг другу!
А кто здоровый - пусть кинет в меня что-нибудь!
Спустя 48 секунд (2.06.2009 - 21:54) САВА написал(а):
| Цитата |
| Это точно. Я же говорил что сначала думаю а потом делаю. А делать не думая у меня получается только у пьяного.... |
Bear2008 !
Как интересно! И что надумал? Пойти нажраццо? Или жениться не глядя?
Или что?
Каков результат того,что ты тут в кнопочки натыкал и мы тебе в ответ?
Спустя 1 минут, 36 секунд (2.06.2009 - 21:56) доменик написал(а):
| Цитата (Kabir63 @ 2.06.2009 - 21:15) |
| Когда молчит мой ум,просто живу и это для меня Главное! |
Добрый день.
Поясни пожалуйста? Ты живешь с выключенным умом?
Спустя 39 секунд (2.06.2009 - 21:57) САВА написал(а):
Transformer !!!
| Цитата |
| А кто здоровый - пусть кинет в меня что-нибудь! |
Ну,так не чесно!
Спустя 14 минут, 6 секунд (2.06.2009 - 22:11) leHa написал(а):
| Цитата (Transformer @ 2.06.2009 - 18:54) |
| Лен, все мы тут больные, надо помогать друг другу! А кто здоровый - пусть кинет в меня что-нибудь! |
Ну да, помогать.
Тому кто просит о помощи
Спустя 15 минут, 17 секунд (2.06.2009 - 22:26) доменик написал(а):
Bear2008
Привет!
Совсем, не могу понять, какая связь между проблеммами с твоей трезвостью и неразделенной любовью. Сильно намешано у тебя в голове.
Пусть я окажусь не прав, но мне кажется, что твоя проблемма в потере веры в людей. Словно и девственниц и одиноких, замечательных женщин больше нет и не будет никогда. Ты отказываешься в это верить и загоняешь себя в пропасть, в которой только и наслождаешься своей "ущербностью" и "обделенностью".
Я не притязаю на правоту (пусть меня поправят дамы), но "с лица воды не пить". Мужчин часто любят не за внешность. И у меня очень много примеров в подтверждение этого факта есть.
Мужчин любят: вначале за ум, потом за доброту, потом за надежность.
Возможно, я тоже не из "этого времени"? Или внешность и бабло главное?
Привет!
Совсем, не могу понять, какая связь между проблеммами с твоей трезвостью и неразделенной любовью. Сильно намешано у тебя в голове.
Пусть я окажусь не прав, но мне кажется, что твоя проблемма в потере веры в людей. Словно и девственниц и одиноких, замечательных женщин больше нет и не будет никогда. Ты отказываешься в это верить и загоняешь себя в пропасть, в которой только и наслождаешься своей "ущербностью" и "обделенностью".
Я не притязаю на правоту (пусть меня поправят дамы), но "с лица воды не пить". Мужчин часто любят не за внешность. И у меня очень много примеров в подтверждение этого факта есть.
Мужчин любят: вначале за ум, потом за доброту, потом за надежность.
Возможно, я тоже не из "этого времени"? Или внешность и бабло главное?
Спустя 7 минут, 48 секунд (2.06.2009 - 22:34) Transformer написал(а):
| Цитата (доменик @ 2.06.2009 - 19:26) |
| Мужчин любят: вначале за ум, потом за доброту, потом за надежность. Возможно, я тоже не из "этого времени"? Или внешность и бабло главное? |
Бабло и внешность - это одежка, по которой встречают.
Естественно с первым встречным мало кто трахаться полезет.
Так что дальше - важнее. А доброта это, ум или просто неординарность - это у всех всякое бывает. Ж - смотрят на перспективы, что ей светит, если она войдет в отношения. Например из множества факторов есть и похвастаться перед подружками - из множества факторов складывается или вычитается сумма. Эти рассчеты делает подсознательная система инстинктов. :-)
Но факт, что Бетховен или кто-то еще типа того, пусть даже пока не при делах - 6-е чувство все увидит, сознание может не увидит - а там - "тыкая пальцем вверх" - все как на ладони, любые закоулки любой души.
Спустя 14 минут, 8 секунд (2.06.2009 - 22:48) доменик написал(а):
| Цитата (Transformer @ 2.06.2009 - 22:34) |
| Эти рассчеты делает подсознательная система инстинктов. :-) |
Не спорю! Просто у каждого своя "система ценностей."
К примеру, можно на первое место поставить деньги (как самый значимый критерий) и ловить подругу по этому признаку. Так ведь скучно так. Да и не на долго.
Здесь гармония нужна. Правильный баланс, так сказать.
Спустя 4 минут, 22 секунд (2.06.2009 - 22:52) leHa написал(а):
| Цитата (доменик @ 2.06.2009 - 19:26) |
| Возможно, я тоже не из "этого времени"? Или внешность и бабло главное? |
Да нет, не главное.
Кто делает ставку на любовь, а не на критерии, тот не проигрывает.
Только когда у человека ни красотой ни богатством не блещет и внутри дерьмо - шансы равны нулю.
А когда он еще и прЫнцессу ищет, еще и чтоб девственницей была
Параллель тут можно провести, когда уродина, старая, глупая и злая ищет себе богатого и молодого красавца. Как думаешь, каковы ее шансы?
Возможно были бы велики, если бы она человеком была замечательным или наоборот - дрянь, но красивая. А когда ни рожи, ни кожи и душа - какашка, шансов нет. Вот об этом собственно и речь.
Спустя 7 минут, 20 секунд (2.06.2009 - 23:00) Кот Баюн написал(а):
leHa
когда уродина, старая, глупая и злая ищет себе богатого и молодого красавца
Высшие силы любят шутить со смертными. Иногда очень зло.
когда уродина, старая, глупая и злая ищет себе богатого и молодого красавца
Высшие силы любят шутить со смертными. Иногда очень зло.
Спустя 8 минут, 3 секунд (2.06.2009 - 23:08) доменик написал(а):
| Цитата (leHa @ 2.06.2009 - 22:52) |
| А когда ни рожи, ни кожи и душа - какашка, шансов нет. Вот об этом собственно и речь. |
Я, в общем то, не люблю Литвака. Но одна мысль мне понравилась. Что бы нравиться женщинам - воспитай в себе личность.
Медведь!
Ты на правильном пути. Стресс от воздержания от алкоголя приводит к повышеннию уровня эндорфинов, тестостерона, андрогена, эстрагенов. (Это здесь озвучили как спермотоксикоз) А они, в свою очередь, очень сильно расшатывают эмоциональное состояние. Это может продолжаться несколько лет. А вообще, обратись к психотерапевту или психологу. Лишним не будет. (Это я в хорошем смысле).
Спустя 4 минут, 24 секунд (2.06.2009 - 23:12) дядя андрей написал(а):
Кот Баюн
Соглашусь эксклюзивные пары встречал и даже счастливые.
Соглашусь эксклюзивные пары встречал и даже счастливые.
Спустя 5 минут, 37 секунд (2.06.2009 - 23:18) Друг написал(а):
Алкоголь ушёл, захватив с собой азарт, движение. Какое то вялотекущее состояние, весь пацановский адреналин ушёл.
Спустя 3 минут, 7 секунд (2.06.2009 - 23:21) доменик написал(а):
| Цитата (leHa @ 2.06.2009 - 22:52) |
| Параллель тут можно провести, когда уродина, старая, глупая и злая ищет себе богатого и молодого красавца. |
Я такие пары не встречал. Но, молодых, умных, красавиц с богатыми стариками встречал очень часто. И кто сможет их осудить?
Значит у Медведя все будет хорошо. Дайте время.
Спустя 1 минут, 36 секунд (2.06.2009 - 23:22) Robert написал(а):
| Цитата (АлкогОлег @ 2.06.2009 - 20:04) |
| О депрессии, смысле жизни и смирении- у Чехова Чехов свято верил: по-настоящему человека занимает только еда! |
Не знал... Молодец был г-н Чехов что уж там говорить. Сложно поспорить - сам вот только только четыре дня проголодал. Понял насколько сам помешан на еде и окружающие.
Спустя 8 минут, 12 секунд (2.06.2009 - 23:31) доменик написал(а):
| Цитата (Друг @ 2.06.2009 - 23:18) |
| Алкоголь ушёл, захватив с собой азарт, движение. Какое то вялотекущее состояние, весь пацановский адреналин ушёл. |
А как, ты это сможешь объяснить?
Я называю это притуплением чувств. Утратой красок. Это из серии: -
"Эмоциональное переживание губительно для алкоголика!!"
Спустя 9 минут, 9 секунд (2.06.2009 - 23:40) leHa написал(а):
| Цитата (доменик @ 2.06.2009 - 20:08) |
| Медведь! Ты на правильном пути. |
В чем?
В том, что человек вместо того, чтобы заниматься собой пытается устроить личную жизнь при отсутствии выбора невесты?
У него никакой нет - ни красивой, ни уродины, ни старой, ни молодой, ни с детьми, ни без, а он делит шкуру неубитого медведя!
Разобрался бы со своей болезнью для начала, а потом может и выбор бы появился. А на такое гнилье вряд ли кто позарится. или как тут уже сказали, надо иметь ну очень много денег, чтобы хотя бы терпели его рядом за бабло. И то - это определенная категория женщин, не каждая пойдет на это. Хуже проституции.
Спустя 18 минут, 9 секунд (2.06.2009 - 23:58) Rearranger написал(а):
Балаган какой-то.....
Спустя 6 минут, 6 секунд (3.06.2009 - 00:04) доменик написал(а):
leHa
Мы все умные такие. А человек реально мучается.
Возможно этот форум единственное напоминание о том человеке. Возможно он ждет, что она ответит в теме или просто прочитает его пост. Мазохизм изрядный. А он, упивается этой болью.
А судить и осуждать мы все умеем. А он, и сам, себя во многом не понимает. Просто мучается и беситься.
Во, что трезвость с людями делает. Пил бы, так и не было бы такой проблеммы?
Мы все умные такие. А человек реально мучается.
Возможно этот форум единственное напоминание о том человеке. Возможно он ждет, что она ответит в теме или просто прочитает его пост. Мазохизм изрядный. А он, упивается этой болью.
А судить и осуждать мы все умеем. А он, и сам, себя во многом не понимает. Просто мучается и беситься.
Во, что трезвость с людями делает. Пил бы, так и не было бы такой проблеммы?
Спустя 12 минут, 46 секунд (3.06.2009 - 00:17) Robert написал(а):
Обсуждение какие бабы ....ди и какие мужики кааазлы всегда актуально 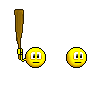
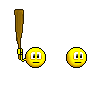
Спустя 6 часов, 28 минут, 16 секунд (3.06.2009 - 06:45) leHa написал(а):
| Цитата (доменик @ 2.06.2009 - 21:04) |
| Мы все умные такие. А человек реально мучается. |
Знаю я такого мученика.
Жизнь мне поганил, пока не посадили.
Таких же взглядов примерно, только детей любил.
Спустя 1 минут, 13 секунд (3.06.2009 - 06:46) leHa написал(а):
| Цитата (Robert @ 2.06.2009 - 21:17) |
| Обсуждение какие бабы ....ди и какие мужики кааазлы всегда актуально |
Для меня нет.
Может поэтому мне Бог дал такие отношения, как я хотела.
Спустя 10 минут, 15 секунд (3.06.2009 - 06:56) Bear2008 написал(а):
доменик
| Цитата |
| Пусть я окажусь не прав, но мне кажется, что твоя проблемма в потере веры в людей. Словно и девственниц и одиноких, замечательных женщин больше нет и не будет никогда. Ты отказываешься в это верить и загоняешь себя в пропасть |
Ты прав я отказываюсь верить потому что моя жизнь меня убеждает в обратном.
leHa
| Цитата |
| И то - это определенная категория женщин, не каждая пойдет на это. Хуже проституции. |
Ты же сама из таких
И вот ведь еще что интересно. Я никде не говорил что мне нужна девственница. Я понимаю Errare humanum est (человеку свойственно ошибаться) Но когда человек говорит "Что я дура девственницей замуж выходить" это другое. Это уже лядство...
Спустя 30 минут, 56 секунд (3.06.2009 - 07:27) leHa написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 3.06.2009 - 03:56) |
| Ты же сама из таких Поэтому и злишься. |
Ооо! Как Вы проницательны!
Я никого рядом не терплю за деньги и мой любимый человек не богат.
А злюсь я не поэтому.
Ты напоминаешь мне человека, с которым я 3 года жила в употреблении.
А когда мы расстались он корчил из себя влюбленного страдальца и продолжал пакостить, угрожая, что убьет меня и себя.
А сейчас он сидит за хранение наркотиков. Жизнь все сама расставила по своим местам.
Спустя 1 часов, 37 минут, 7 секунд (3.06.2009 - 09:05) anonim написал(а):
жадный ты Медведь. боишься посягательств на своё , пОтом приобретенное. нужен равноценный "обмен": если с меня квартиры и пропитание, то будьте любезны и мене всю себя без остатка. а если ктото раньше был - то пусть он и кормит.
Странно, вроде усе есть, а "хоца застрелиться"
Странно, вроде усе есть, а "хоца застрелиться"
Спустя 1 часов, 2 минут, 51 секунд (3.06.2009 - 10:07) anonim написал(а):
а может и не жадный. может боишься что другие скажут "Вот Медведь идиот, нашел себе с ребенком, кормит , содержит, а она....с тем то тогда то, и на тебе , пристроилась у Медведя удачно".
Чужое мнение тебе всю жизнь портит, да, медведь? Хочешь чтоб говорили -"Медведь - крутой мужик, сумел себе жизнь устроить, хата есть, жену нашел, все при нем". гордыня ето.
Чужое мнение тебе всю жизнь портит, да, медведь? Хочешь чтоб говорили -"Медведь - крутой мужик, сумел себе жизнь устроить, хата есть, жену нашел, все при нем". гордыня ето.
Спустя 14 секунд (3.06.2009 - 10:08) venus_81 написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 2.06.2009 - 18:10) |
Ну по женской может быть и так... Я лядями называю тех кто хоть раз без любви, где чистый ... и нечего более... |
а ты прикинь я не разу без любви не спала...
противно таких мужиков читать...хотя мужики для тебя громко сказано
Спустя 14 минут, 43 секунд (3.06.2009 - 10:22) anonim написал(а):
проститутки - чисто товарно-денежные отношения.
нет, все-таки жадный. знаешь что лишнего такие девушки не потребуют. Привык (или жизн научила) продавать, покупать. Так проще жить. извеняйте, могу токо деньгами, любить боюсь. Не отвергнет, стопудово. А чьи бабки- тот Король. опять , блин гордыня. Запутал меня совсем
нет, все-таки жадный. знаешь что лишнего такие девушки не потребуют. Привык (или жизн научила) продавать, покупать. Так проще жить. извеняйте, могу токо деньгами, любить боюсь. Не отвергнет, стопудово. А чьи бабки- тот Король. опять , блин гордыня. Запутал меня совсем
Спустя 5 минут, 32 секунд (3.06.2009 - 10:28) Друг написал(а):
venus_81
Да ты что?! Неужели ты такая хорошая.

А запила наверно от недостатка любви ?
Да ты что?! Неужели ты такая хорошая.
А запила наверно от недостатка любви ?
Спустя 19 минут, 12 секунд (3.06.2009 - 10:47) venus_81 написал(а):
я не хорошая, я злая тощая и черная
просто комплексов много было. чтоб обнажиться перед человеком я должна была ему очень доверять и любить
запила я потому что алкашка...
просто комплексов много было. чтоб обнажиться перед человеком я должна была ему очень доверять и любить
запила я потому что алкашка...
Спустя 1 минут, 51 секунд (3.06.2009 - 10:49) Bear2008 написал(а):
venus_81
| Цитата |
| а ты прикинь я не разу без любви не спала... |
А вот в это я не верю... Конечно это мой опыт но считаю что ПОЛЮБИТЬ можно всего один раз. Но судя по тому что ты пишешь - тут любви и рядом не стояло...
Спустя 6 минут, 14 секунд (3.06.2009 - 10:55) Bear2008 написал(а):
anonim
Ну насчет жадности и гордыни ты может отчасти прав. Я просто злюсь что есть вот некоторые не хуже и не лучше чем я, но им вот достаются нрормальные а мне отстатки, которые точно такие же как я выбросили... Злюсь и на себя и на остальных... На всех... Все просто. Если бы были действительно лучше чем я а так может посим патичнее да слаще говорят. Ну а тот кто верит тоже получается виновать... Вот что я думаю, а гордыня это или что другое - не знаю, попытаюсь разобраться....
Ну насчет жадности и гордыни ты может отчасти прав. Я просто злюсь что есть вот некоторые не хуже и не лучше чем я, но им вот достаются нрормальные а мне отстатки, которые точно такие же как я выбросили... Злюсь и на себя и на остальных... На всех... Все просто. Если бы были действительно лучше чем я а так может посим патичнее да слаще говорят. Ну а тот кто верит тоже получается виновать... Вот что я думаю, а гордыня это или что другое - не знаю, попытаюсь разобраться....
Спустя 7 минут, 49 секунд (3.06.2009 - 11:03) Друг написал(а):
Вот у меня проститутка есть одна. Позвонил ей, то есть мы уже встречались без фирмы и мне с ней было хорошо, наверно с одной. Говорит, что сейчас занята, парень у неё. 
Спустя 4 секунд (3.06.2009 - 11:03) Серго написал(а):
| Цитата (Bear2008 @ 3.06.2009 - 10:49) |
| Конечно это мой опыт но считаю что ПОЛЮБИТЬ можно всего один раз. Но судя по тому что ты пишешь - тут любви и рядом не стояло... |
А ты считаешь,что Любовь-это когда собираешься убить её и себя?
Как-то интересно получается...человек,понятия не имеющий о любви,раздаёт всем оценки
Ты ж себя жалеешь и хочешь,чтобы всё было по-твоему,саможалость и своеволие прёт через край.
Насколько я понимаю сейчас,то главное любить и желать человеку хорошего,не зависимо от того с тобой он или нет.
Спустя 7 минут, 6 секунд (3.06.2009 - 11:10) Марена написал(а):
Серго


Спустя 9 минут, 54 секунд (3.06.2009 - 11:20) Ravenna написал(а):
Дело не в твоих взглядах на любовь, и проституток, медведь. Это твое право. Дерьмом тебя делает то, что тебе даже не приходит в то, что у тебя исполняет обязанности мозгов, что пока ты будешь видеть кругом лядей и об'едки, тебя и будут окружать одни ляди и об'едки, и ничегошеньки другого не может быть. Потому что Дикобразу дикобразово (фильм "Сталкер"). А у тебя еще хватает глупости на это злиться и удивляться, что у других по-другому...
Спустя 26 минут, 59 секунд (3.06.2009 - 11:47) Rearranger написал(а):
Ravenna А ему это писали уже, не ты первая. Если человек думает что он глист в куче дерьма - то именно им он и является.
Спустя 3 минут, 38 секунд (3.06.2009 - 11:51) Ravenna написал(а):
Rearranger
Да я и не претендую на открытие Америки...
Да я и не претендую на открытие Америки...
Спустя 2 минут, 45 секунд (3.06.2009 - 11:53) Rearranger написал(а):
Ravenna Я в том смысле, что ЭТО БЕСПОЛЕЗНО....... это не алкоголизм....
Тут в роли компульсива выступает некая "идеальная" недостижимая пассия это что-то из области маний...... ОНА не бл...дь (для него)- в любом случае, независимо от того что она делает с ним или с другими.... это подменяет у него понятие любовь. Алкоголь просто снимает приступы этой мании - такой же эффект могут дать любые седативные лекарства.
Проститутки как раз дают повод понять что проститутка и непроститутка - это совершенно разные вещи, и надо быть абсолютным лохом, чтоб не отличать нормальных разных женщин от проституток...
Вот к примеру он явно не сможет адекватно ответить на вопрос - а если он влюбится (хотя он не способен любить - он способен сходить с ума по...)во вдову его погибшего сослуживца и у нее будет ребенок его погибшего друга - он тоже будет выбл...дком? Если да - то почему? Если нет - то почему? Или даже не так а так: Является ли выбл...дком ребенок его погибшего сослуживца? Если нет то почему? Если да то почему? Вот хера с два он адекватно ответит на эти 2 простых вопроса......
Тут в роли компульсива выступает некая "идеальная" недостижимая пассия это что-то из области маний...... ОНА не бл...дь (для него)- в любом случае, независимо от того что она делает с ним или с другими.... это подменяет у него понятие любовь. Алкоголь просто снимает приступы этой мании - такой же эффект могут дать любые седативные лекарства.
Проститутки как раз дают повод понять что проститутка и непроститутка - это совершенно разные вещи, и надо быть абсолютным лохом, чтоб не отличать нормальных разных женщин от проституток...
Вот к примеру он явно не сможет адекватно ответить на вопрос - а если он влюбится (хотя он не способен любить - он способен сходить с ума по...)во вдову его погибшего сослуживца и у нее будет ребенок его погибшего друга - он тоже будет выбл...дком? Если да - то почему? Если нет - то почему? Или даже не так а так: Является ли выбл...дком ребенок его погибшего сослуживца? Если нет то почему? Если да то почему? Вот хера с два он адекватно ответит на эти 2 простых вопроса......
Спустя 4 минут, 5 секунд (3.06.2009 - 11:57) venus_81 написал(а):
минимум влюбленность была всегда
за исключением пьяных беспорядочных связей
Спустя 1 часов, 31 минут, 5 секунд (3.06.2009 - 13:29) АлкогОлег написал(а):
Привет, Венерка!
Как дела?
Косте не послала фотку?
_____________________
Вот вы, господа и дамы (Равены-Марены-Перестройщики,/Трансформеры...), всё Костю воспитываете, разъясняете да анализируете- Бог вам судья (и ему тоже). А слабо опытом поделиться, собственным?! Научите тому, что сами умеете, ОК?
(Я вот, после развода, женился снова- на разведёнке с больным ребёнком, и не считаю, что мне достались объедки- я сам огрызок тогда- а считаю, что очень даже повезло! И я вполне счастлив, имея полноценную семью. Удачи!)
Как дела?
Косте не послала фотку?
_____________________
Вот вы, господа и дамы (Равены-Марены-Перестройщики,/Трансформеры...), всё Костю воспитываете, разъясняете да анализируете- Бог вам судья (и ему тоже). А слабо опытом поделиться, собственным?! Научите тому, что сами умеете, ОК?
(Я вот, после развода, женился снова- на разведёнке с больным ребёнком, и не считаю, что мне достались объедки- я сам огрызок тогда- а считаю, что очень даже повезло! И я вполне счастлив, имея полноценную семью. Удачи!)
Спустя 2 минут, 2 секунд (3.06.2009 - 13:31) venus_81 написал(а):
привет
отлично как всегда
туниядствую на работе...ногти крашу, коды от туборга продаю, страхи прописываю, ну и на НД уж как обычно
а на кой мне посылать ему фотку???не достоин однозначно
отлично как всегда
туниядствую на работе...ногти крашу, коды от туборга продаю, страхи прописываю, ну и на НД уж как обычно
а на кой мне посылать ему фотку???не достоин однозначно
Спустя 18 минут, 4 секунд (3.06.2009 - 13:49) Rearranger написал(а):
| Цитата (АлкогОлег @ 3.06.2009 - 13:29) |
| _____________________ Вот вы, господа и дамы (Равены-Марены-Перестройщики,/Трансформеры...), всё Костю воспитываете, разъясняете да анализируете- Бог вам судья (и ему тоже). А слабо опытом поделиться, собственным?! ....... |
Ну вот и НАУЧИ Костю как ты после развода женился снова- на разведёнке с больным ребёнком, и не считаешь, что тебе достались объедки- ты сам огрызок тогда- а считаешь, что очень даже повезло! И вполне счастлив, имея полноценную семью.
Вот про счастье ему и расскажи и объясни КАК ЕМУ быть счастливым....
Спустя 1 минут, 45 секунд (3.06.2009 - 13:50) доменик написал(а):
АлкогОлег
Мне реально повезло. Мне удалось сохранить семью.
Но если уж, говорить об этом, то - почему часто распадаются старые семьи алкоголиков? Только не нужно отвечать односложно, типа - "Нас свела пьянка, или кроме пьянки, у нас, ничего общего не было." Ведь это ложь!
Мне реально повезло. Мне удалось сохранить семью.
Но если уж, говорить об этом, то - почему часто распадаются старые семьи алкоголиков? Только не нужно отвечать односложно, типа - "Нас свела пьянка, или кроме пьянки, у нас, ничего общего не было." Ведь это ложь!
Спустя 24 секунд (3.06.2009 - 13:51) venus_81 написал(а):
и желательно еще объяснить что хамство и потуги оскорбить не красят
Спустя 2 минут, 1 секунд (3.06.2009 - 13:53) anonim написал(а):
| Цитата |
| Вот про счастье ему и расскажи и объясни КАК ЕМУ быть счастливым.... |
потому что мы уже устали
Прощу прощения у всех за "мы"
Спустя 1 минут, 57 секунд (3.06.2009 - 13:55) venus_81 написал(а):
если супруг продолжает пить и семья распадается это нормально для 2 стадии...инстинкт самосохранения второго супруга срабатывает...ну если созависимость далеко не зашла
первый развод-за 2 месяца до родов пропал муж, оказывается бухал и блядовал...мне такой нужен?нет!развод
второй развод-абсолютно пьяный брак...из-за побоев многочисленных стала большая угроза жизни...4 сотрясения, нос в шоке, травма позвоночника и т.д....мне такой нужен?нет!развод
третий развод-шла моя уже очевидная деградация и я элементарно умирала...блокады в сердце, почки, иммунитет и т.д. ... ему это надо?нет!развод
первый развод-за 2 месяца до родов пропал муж, оказывается бухал и блядовал...мне такой нужен?нет!развод
второй развод-абсолютно пьяный брак...из-за побоев многочисленных стала большая угроза жизни...4 сотрясения, нос в шоке, травма позвоночника и т.д....мне такой нужен?нет!развод
третий развод-шла моя уже очевидная деградация и я элементарно умирала...блокады в сердце, почки, иммунитет и т.д. ... ему это надо?нет!развод
Спустя 16 секунд (3.06.2009 - 13:55) доменик написал(а):
| Цитата (leHa @ 3.06.2009 - 06:45) |
| Знаю я такого мученика. |
Привет.
Посоветуй, как объяснить человеку, что те маленькие зелёнинькие крокодильчики, которые кусаются и лезут, к нему, в трусы, не существуют и лишь плод его фантазии?
Спустя 4 минут, 12 секунд (3.06.2009 - 13:59) Rearranger написал(а):
| Цитата (anonim @ 3.06.2009 - 13:53) | ||
потому что мы уже устали Прощу прощения у всех за "мы" |
Однозначно, если ему надо разжевать - то это не сюда. Хотя уже разжевали!!!!
На вопрос почему вокруг одни бляди и говно (сорри) - есть лишь один ответ - потому что ты видишь одно говно вокруг и одних блядей.
Что еще надо объяснять - что проблема не в окружающем а в голове? А он этого не понимает? Как перестать видеть говно? Да никак не перестанешь, если думаешь что только оно вокруг. Надо перестать думать что оно вокруг - тогда и видеть его перестанешь....... всё. Затрахала меня эта тема, больше не пишу сюда.
Спустя 2 минут, 51 секунд (3.06.2009 - 14:02) Марена написал(а):
АлкогОлег
Кстати,случайно,не обратил внимания,что я ни разочку его не поучила?И ни одного поста не написала.Не заметил?Напрасно,внимательней надо читать,прежде чем самому поучать.
Кстати,случайно,не обратил внимания,что я ни разочку его не поучила?И ни одного поста не написала.Не заметил?Напрасно,внимательней надо читать,прежде чем самому поучать.
Спустя 4 минут, 35 секунд (3.06.2009 - 14:07) доменик написал(а):
| Цитата (venus_81 @ 3.06.2009 - 13:55) |
| если супруг продолжает пить и семья распадается это нормально для 2 стадии...инстинкт самосохранения второго супруга |
Да нет!! Я немного о другом.
Вот когда жена своего алкаша всю совместную жизнь за уши тянет, по наркологиям, по знахаркам, в церкви лоб разбивает - "Только бы не пил мой непутевый "Ванюша". Когда она дома и за мужика и за бабу и за "советску власть". Ишачит на такого урода, а он в результате, получив духовное пробуждение и протрезвев уходит к молодой. Да потом, еще и на группе, поносит свою "прежнюю".
Почему об этом мы не говорим?
Я понимаю - любовь ваше социальных предрассудков!
Спустя 11 минут, 57 секунд (3.06.2009 - 14:19) venus_81 написал(а):
да потому что когда он растет, она остается на прежнем уровне...
потому что то что ты описываешь это созависимость...
потому что то что ты описываешь это созависимость...
Спустя 7 минут, 39 секунд (3.06.2009 - 14:26) доменик написал(а):
| Цитата (venus_81 @ 3.06.2009 - 14:19) |
| да потому что когда он растет, она остается на прежнем уровне... потому что то что ты описываешь это созависимость... |
Правильно.
Любой дом, любая полноценная, здоровая семья без созависимости - ночлежка. Любовь - яркое проявление созависимости. Так, что- же мы ее так поганим.
Ты говоришь - он растет? В какую сторону? Везде?
А как же возмещение причиненного вреда? Странно это.
Спустя 8 минут, 0 секунд (3.06.2009 - 14:34) venus_81 написал(а):
созависимость в моем понимании это галимый эгоизм+гордыня
любовь это эмоция, созависимость-болезнь
растет если трезвый...без роста сухость...а она заканчивается только срывом
в этой теме любовь вообще не обсуждалась. мелькало просто слово, не более того
при чем тут возмещение ущерба?человек должен быть счастлив!!!любой!!!
любовь это эмоция, созависимость-болезнь
растет если трезвый...без роста сухость...а она заканчивается только срывом
в этой теме любовь вообще не обсуждалась. мелькало просто слово, не более того
при чем тут возмещение ущерба?человек должен быть счастлив!!!любой!!!
Спустя 17 минут, 27 секунд (3.06.2009 - 14:52) доменик написал(а):
| Цитата (venus_81 @ 3.06.2009 - 14:34) |
| |
Давай по порядку.
созависимость в моем понимании это галимый эгоизм+гордыня
Это у той "бабы" эгоизм и гордыня?
любовь это эмоция, созависимость-болезнь
Не согласен. Любовь, забота, внимание, сопереживание, участие и много еще чего - все это созависимость. И к болезни оно не имеет отношения.
растет если трезвый...без роста сухость...а она заканчивается только срывом
Куда растет?
Сухость - это временное воздержание от алкоголя, или период просветления (ремиссии) в результате психологических манипуляций с сознанием.
С таким эффектом можно назвать сухостью - трезвость полученную в результате посещения групп АА. Перестал ходить - запил!
в этой теме любовь вообще не обсуждалась. мелькало просто слово, не более того
Мне кажется у Медведя любовь. Только нескольго эгоистичная. Полноценной любовью она будет когда он пожелает ей счастья и "отпустит".
при чем тут возмещение ущерба?человек должен быть счастлив!!!любой!!!
Безусловно должен! Даже очень должен!!!
Но впрочем, если мы созависимость назвали болезнью. То, любовь, возникшую в трезвости, можем назвать отмазом от всех общечеловеческих законов.
Спустя 7 минут, 58 секунд (3.06.2009 - 15:00) Ravenna написал(а):
АлкогОлег
Врешь ты все, и спишь ты в тумбочке! Я не воспитываю и не анализирую, а сужу и оцениваю, а также занимаюсь сплетнями и критикой. И еще ругаюсь
Врешь ты все, и спишь ты в тумбочке! Я не воспитываю и не анализирую, а сужу и оцениваю, а также занимаюсь сплетнями и критикой. И еще ругаюсь
Спустя 1 минут, 56 секунд (3.06.2009 - 15:02) venus_81 написал(а):
у любой/любого страдающего созависимостью на мой взгляд эгоизм+гордыня
Любовь — психологическое состояние, чувство, связанное с высшей нервной деятельностью живого организма.
то что ты описываешь является следствием любви...я люблю Суслика...поэтому и забочусь о ней...НО не наоборот
Созависимость выражается в сильной поглощенности и озабоченности, а также крайней зависимости (эмоциональной, социальной и, иногда, физической) от человека или предмета. Развитие созависимости приводит к возникновению патологического состояния, которое проявляется и в отношениях с другими людьми, а не только с тем человеком, от которого созависят.
М. Пити, известный специалист по работе с созависимостью, таким образом определяет это нарушение:
"Созависимый - это человек, который позволил, чтобы поведение другого человека повлияло на него, и полностью поглощен тем, что контролирует действия этого человека (другой человек может быть ребенком, мужем, женой, родителем, другом, клиентом, бабушкой, дедушкой)."
а именно так обычно и бывает
Медведь сухой!!!он не любит себя, а значит не может полюбить другого!!!
вообще не поняла-кто кому должен?алк созику???или наоборот???
семья из алко и созика это взаимовыгодный паразитический союз...там любви в принципе быть не может...соответственно ни о каком ущербе и речи быть не может
Любовь — психологическое состояние, чувство, связанное с высшей нервной деятельностью живого организма.
то что ты описываешь является следствием любви...я люблю Суслика...поэтому и забочусь о ней...НО не наоборот
Созависимость выражается в сильной поглощенности и озабоченности, а также крайней зависимости (эмоциональной, социальной и, иногда, физической) от человека или предмета. Развитие созависимости приводит к возникновению патологического состояния, которое проявляется и в отношениях с другими людьми, а не только с тем человеком, от которого созависят.
М. Пити, известный специалист по работе с созависимостью, таким образом определяет это нарушение:
"Созависимый - это человек, который позволил, чтобы поведение другого человека повлияло на него, и полностью поглощен тем, что контролирует действия этого человека (другой человек может быть ребенком, мужем, женой, родителем, другом, клиентом, бабушкой, дедушкой)."
а именно так обычно и бывает
Медведь сухой!!!он не любит себя, а значит не может полюбить другого!!!
вообще не поняла-кто кому должен?алк созику???или наоборот???
семья из алко и созика это взаимовыгодный паразитический союз...там любви в принципе быть не может...соответственно ни о каком ущербе и речи быть не может
Спустя 8 минут, 21 секунд (3.06.2009 - 15:10) Rearranger написал(а):
ЗАВИСИМОСТЬ - БОЛЕЗНЬ, СОЗАВИСИМОСТЬ - БОЛЕЗНЬ ВЫЗВАННАЯ ЧУЖОЙ БОЛЕЗНЬЮ.
Что тогда неразделенная любовь? Неразделенная созависимость? Это как??? Я бы очень хотел бы стать мужем зависимой женщины, чтоб зависеть от ее зависимости ?
Я бы очень хотел бы стать мужем зависимой женщины, чтоб зависеть от ее зависимости ? 
 Но она меня не хочет в созависимые..... а я очень хочу.....
Но она меня не хочет в созависимые..... а я очень хочу.....
Но впрочем, если мы созависимость назвали болезнью. То, любовь, возникшую в трезвости, можем назвать отмазом от всех общечеловеческих законов. А любовь возникшую в результате пьянки - мы называем, по логике, - высоким чистым чувством и эталоном для человечества.....
Зависимость от другого человека - называется "компульсивным поведением на отношения" и никакой любовью тут не пахнет.....
Как в анекдоте: Одно из двух, профессор, либо вы никогда не трахались, либо я никогда не какал......
Что тогда неразделенная любовь? Неразделенная созависимость? Это как???
Но впрочем, если мы созависимость назвали болезнью. То, любовь, возникшую в трезвости, можем назвать отмазом от всех общечеловеческих законов. А любовь возникшую в результате пьянки - мы называем, по логике, - высоким чистым чувством и эталоном для человечества.....
Зависимость от другого человека - называется "компульсивным поведением на отношения" и никакой любовью тут не пахнет.....
Как в анекдоте: Одно из двух, профессор, либо вы никогда не трахались, либо я никогда не какал......
Спустя 5 минут, 33 секунд (3.06.2009 - 15:16) Ravenna написал(а):
Rearranger
Воинской службе подобна любовь - отойдите, ленивцы!
(Овидий)
Воинской службе подобна любовь - отойдите, ленивцы!
(Овидий)
Спустя 2 минут, 15 секунд (3.06.2009 - 15:18) доменик написал(а):
| Цитата (venus_81 @ 3.06.2009 - 15:02) |
| НО не наоборот |
А Суслик тебя любит? Что она испытывает к тебе не проявляя заботы?
| Цитата (venus_81 @ 3.06.2009 - 15:02) |
| Развитие созависимости приводит к возникновению патологического состояния, которое проявляется и в отношениях с другими людьми, а не только с тем человеком, от которого созависят. |
Не очень понял.
| Цитата (venus_81 @ 3.06.2009 - 15:02) |
| М. Пити, известный специалист по работе с созависимостью |
Наверное умный мужик. Но сильно передернул понятия. Родительская забота иногда может приобретать патологические формы. Но не всегда мы можем называть заботу о потомстве - болезнью.
,
| Цитата (venus_81 @ 3.06.2009 - 15:02) |
| семья из алко и созика это взаимовыгодный паразитический союз...там любви в принципе быть не может...соответственно ни о каком ущербе и речи быть не может |
Я в накауте!!! Просто сражен на повал.
Эта истина - следствие работы по шагам?
_____________
Бог часто курит
Здесь расположена полная версия этой страницы.